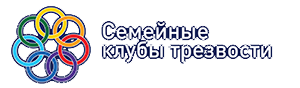Интервью с ведущим актером Московского театра русской драмы Камерная сцена Алексеем Зеленковым
Столетиями было принято считать, что лицедейство и вера мало совместимы. До XVII века актеров, как и самоубийц, хоронили за границей кладбища, если те не успевали перед смертью бросить свое ремесло и покаяться. Называли актеров по-особому: «позорищные». Конечно, речь шла о том, чтобы смотреть, «зрить», но подразумевался и «позор», которого не оберешься. Сегодня актеры уже не блудные дети Церкви. И все-таки по отношению к театру среди людей церковных до сих пор часто наблюдается некий холодок. Бывает и так, что путь на сцену и путь в Церковь проходят по одной дороге. Подобным образом сложилась жизнь у актера Московского театра русской драмы Камерная сцена Алексея Зеленкова, чье воцерковление, пролегло через театральные подмостки. О том, как это случилось, он рассказывает Religare.
— Алексей, Вы пришли одновременно и в Церковь и в театр. Это почти уникальная ситуация. Как это произошло?
— Все началось с моих послеармейских похождений. После возвращения из Афганистана, я находился на распутье. Шел 1988-й год? и было непонятно, что творится в стране. Я попал уже не в тот СССР, из которого уходил. Расцветали неконтролируемый бизнес, бандитизм, наркоторговля. Каждый пытался выбраться из этого бардака. Моя реабилитация после войны проходила тяжело. В этом новом мире надо было адаптироваться, чего-то достичь. Тем более что за два года в армии я не получил никакого образования. Только позже, уже играя в театре, заочно учился в Ярославском театральном институте. Что было тогда делать? Я сначала кинулся в бизнес, зарегистрировал предприятие… Многие тогда шли по этому пути. Поначалу все продвигалось неплохо, а затем мои партнеры посадили меня на героин, чтобы прибрать выгодное дело.
— Вы не чувствовали, что переступили черту?
— Я очнулся тогда, когда увяз уже очень глубоко. На то были свои причины. Ведь как известно 98% тех, кто воевал в Афганистане, принимали наркотики. Там они были очень доступны. Без наркотиков почти никто не воевал: слишком сильный стресс. Начинали с легких, некоторые кончали тяжелыми. Уже потом, в СССР, мне их стало не хватать. Хотелось как-то заглушить обиду на общество, на то, что одни пытаются защищать свою Родину, а другие… В общем, все это вылилось в какое-то забытье. Многие, как я в этой ситуации, прибегали к тому же, к чему в Афганистане. Нам это помогало справляться с психологическими проблемами. Потом люди понимали, что это путь в никуда, но было поздно.
— Вы пытались вылечиться?
— В Союзе медицина не была для этого адаптирована. Да и никаких реабилитационных центров для тех, кто возвращался «из-за речки», то есть из Афгана, не существовало. Приспосабливались, как могли. В какой-то момент я думал, что уже не вылезу. Даже были попытки покончить с собой. В итоге я все-таки «слез», но для этого пришлось уйти в жуткий запой. Начал пить водку литрами, чтобы уйти он наркотиков. Мне повезло: мои друзья работали в театре и привели меня туда. Я был зачислен в труппу вспомогательного состава театра.
— С чего началось воцерковление?
— У наших актеров был друг и попечитель — отец Алексий Бабурин. По первому образованию он врач-психиатр, а по второму — священник. В наш театр ходили многие его друзья и знакомые. Наш художественный руководитель Михаил Щепенко очень полагался на него, поскольку у некоторых актеров была проблема алкоголизма. Отец Алексий подарил нам ощущение трезвости и духовного трезвения. Но для этого пришлось пройти целый курс лечения в селе Ромашково под Москвой, в так называемой «общине трезвости». 90% из тех, кто побывал в общине, с Божьей помощью справились с собой.
— 90% — это потрясающий результат…
— Вот через эту «общину трезвости» потихоньку и началось воцерковление.
— А раньше?
— Раньше многие были верующими, но не шли в Церковь всерьез и навсегда. А в общине присутствовала утренняя молитва, службы. В театре мы вроде бы и ставили спектакли на христианские темы, но особого эффекта не было. А когда попали к Алексею Бабурину, началась уже совсем другая жизнь. Тут мы обратились к Богу непосредственно, и эффект был поразительный.
— Как вы думаете, человеку было проще прийти в церковь в 90-е или сейчас?
— В 90-е это было практически невозможно. Тогда некоторые не приходили, а заходили — чтобы поставить свечку и выйти. Тяга к Церкви в миру тогда вообще не наблюдалась, потому что время было очень уж страшным. Культ денег, культ крутизны… Бандиты часто заходили в храм только затем, чтобы отпеть друга, которого убили их конкуренты. Человеческая жизнь ничего не стоила, все строилось на понятиях, бал правили блатные, которые вернулись из тюрем. И подрастала такая же молодежь, хотя вся она в конце 90-х погибла в криминальных войнах, почти никого не осталось. Двадцатилетние мальчики погибали, их хоронили «как положено», а потом время от времени приходили и ставили свечки. Опять же — потому что так принято. В «нулевые» в церковь потянулись уже другие люди, более сознательные. И шли они не за этим.
— Чем Московский театр русской драмы Камерная сцена уникален сегодня?
— Тем, что не потерял традиций русского театра, вахтанговской школы. Труппе удалось сохранить юмор — так, чтобы он был не пошлым, а добрым. У нашего бессменного руководителя Михаила Щепенко еще в 90-е годы была своя идеология, желание нести в общество христианские ценности. У нас шла практически одна классика: Чехов, Толстой, Пушкин. Все они глубоко религиозные люди, да собственно почти вся русская классика построена на религиозных идеях.
— Исторически церковным людям присуще недоверие к сцене…
— Понимаю. А у нас в театре все наоборот. Лично я абсолютно уверен: если искусство направлено на пробуждение добрых чувств, значит, оно не может противоречить Церкви. Если лицедейство становится самоцелью — другое дело.
— Как отличить одно от другого?
— Раньше в этом была проблема, но сейчас, по-моему, отличить несложно. Все сразу становится понятно, когда классиков начинают превращать в объект для глумления. Это почему-то называется «актуализацией классики». Звучит абсурдно: классика на то и классика, что в актуализации не нуждается.
— Вы имеете в виду те случаи, когда Татьяну Ларину заставляют прыгать на столе, Онегина и Ленского драться кружками в пивной, а Джульетту отсылать сообщение по факсу?
— Примерно. Во-первых, тут сквозит высокомерное и плохо скрываемое презрение к зрителю, который якобы сам не в состоянии наложить сюжет на другую эпоху. Кроме того, классический сюжет ведь не случайно придуман так, как придуман. Когда мы видим картину, которая выставлена в Третьяковке, мы понимаем: художник увидел именно так. Нельзя же трем богатырям взять и пририсовать рога, копыта или мобильный телефон, или крест на них фашистский поставить? У классиков наших все прописано до мелочей, до каждого штриха. Если режиссер берется за дело, он должен это понимать. Если же он пририсовывает рога и копыта, это больное воображение.
— Какие из Ваших ролей особенно любимы?
— В драме «Царь Федор Иоаннович» я играю Головина. Это умный человек, — единственный, кто избежал кары Бориса Годунова. Его линия проходит через весь спектакль. Он в принципе все знал заранее и предсказал, чем все закончится. И был прав: нужно было поступать так, как он говорил. По-другому было нельзя. Еще одна роль — чеховский Альфонс Шампунь. Здесь я играю такого обрусевшего француза, который остался в России и воспитал не одно поколение русских детей. Но его душа просится во Францию. Немногословный, но очень глубокий образ. В этой роли бесконечно раскрываешь новые оттенки. Это студенческая роль, ее можно играть без конца. Антон Павлович Чехов написал для молодых актеров именно с этой целью.
— Вашему театру ближе концепция Станиславского — полное отождествление с персонажем? Или модернистская сдержанная дистанция?
— Вживаться необходимо, но и дистанция тоже нужна. Если вжиться в образ полностью, если между актером и образом дистанции не будет, это чревато шизофренией. Когда актер сходит со сцены, но внутренне остается там, это очень опасно. Роли нельзя дать поглотить себя до конца.
— Вы отец четверых детей. Что Вам как христианину и как актеру дает семья?
— Семья дает возможность познавать любовь, без которой не только в жизни но и на сцене христианину делать нечего. Семья — это школа любви.
Светлана Галанинская