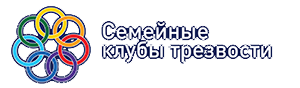Людские немощи можно разделить на две группы. Это: те, что вызывают сочувствие и сострадание здорового окружения и те, что у этого же окружения вызывают брезгливость, протест и даже гнев. С первой группой, я думаю, все ясно. Ко второй в какой-то степени относятся венерические заболевания (хотя у многих ныне здоровых и они находят понимание, мол, кто не без греха), шизофрения и, особенно, алкоголизм. Вот об этом последнем недуге, скрутившем большую часть мужского населения Руси, я и поведу речь.
Пьянство, безусловно, агрессивно в том смысле, что подавляющее большинство пьяниц ненавидят тех, кто смеет покушаться на вино.
Я умышленно употребляю термин «пьянство», а не «алкоголизм», т. к. не хочу обидеть своих многочисленных друзей, знакомых, коллег и просто случайных собутыльников гадким определением «алкоголик». Для уважающих себя пьяниц это определение равносильно «козлу» или «пидору». Иначе, понятие «алкоголик» у нас воспринимается как ругательство, а отнюдь не болезнь – тяжелая и мучительная.
Мой тесть, низенький худенький крепышок, дай Бог ему здоровья, который в течение сорока лет каждый день, по его словам, выпивал минимум бутылку водки, так защищал свою честь: «Ну какой я алкоголик, сам посуди! За сорок лет ни разу работу не прогулял. В любом состоянии – а приходил. Приползал, мать ее так-то…» Что ж, аргумент весомый. И у каждого пьяницы на этот счет своя отмазка. Это может быть: «Я под забором не валяюсь», или: «Я пятаки у метро не стреляю, сам зарабатываю, слава Богу», или: «Я детские одеяльца из дома не таскаю», или уж совсем наивное: «Да я в это воскресение только пиво пил, ничего больше». Пьющий человек подсознательно ищет тех, кто «круче» его. Любит поговорить об их пьяных приключениях, чтобы на этом фоне выглядеть почти паинькой. Мол, вот они, настоящие алкаши, а я – нет.
Никто не хочет признаваться в позорном заболевании. А то, что это заболевание позорно, наверное еще при первобытно-общинном строе постановил какой-нибудь совет старейшин или вождей. Так и повелось. Больше того, даже смерть человеческую дебильное общество ухитрилось рассортировать. Например, умирает Некто. «Выпивал, наверное, много? – спрашивают сочувственно. «Да, был грех, перебарщивал частенько», — отвечают. И уже другое отношение к смерти. Покивают сочувственно, мол, что же делать – сам виноват. А если ответят: «Да что вы! В рот не брал.» Пойдут охи-ахи, мол, как же так? Какая несправедливость.
В первом случае в глазах обывателя смерть подразумевается как бы второго сорта, «второй свежести», что ли. Во-втором – первого сорта. Как же! Не пил, не курил, а помер. Жалко.
Мой тесть, низенький худенький крепышок, дай Бог ему здоровья, который в течение сорока лет каждый день, по его словам, выпивал минимум бутылку водки, так защищал свою честь: «Ну какой я алкоголик, сам посуди! За сорок лет ни разу работу не прогулял. В любом состоянии – а приходил. Приползал, мать ее так-то…» Что ж, аргумент весомый. И у каждого пьяницы на этот счет своя отмазка. Это может быть: «Я под забором не валяюсь», или: «Я пятаки у метро не стреляю, сам зарабатываю, слава Богу», или: «Я детские одеяльца из дома не таскаю», или уж совсем наивное: «Да я в это воскресение только пиво пил, ничего больше». Пьющий человек подсознательно ищет тех, кто «круче» его. Любит поговорить об их пьяных приключениях, чтобы на этом фоне выглядеть почти паинькой. Мол, вот они, настоящие алкаши, а я – нет.
Никто не хочет признаваться в позорном заболевании. А то, что это заболевание позорно, наверное еще при первобытно-общинном строе постановил какой-нибудь совет старейшин или вождей. Так и повелось. Больше того, даже смерть человеческую дебильное общество ухитрилось рассортировать. Например, умирает Некто. «Выпивал, наверное, много? – спрашивают сочувственно. «Да, был грех, перебарщивал частенько», — отвечают. И уже другое отношение к смерти. Покивают сочувственно, мол, что же делать – сам виноват. А если ответят: «Да что вы! В рот не брал.» Пойдут охи-ахи, мол, как же так? Какая несправедливость.
В первом случае в глазах обывателя смерть подразумевается как бы второго сорта, «второй свежести», что ли. Во-втором – первого сорта. Как же! Не пил, не курил, а помер. Жалко.
Глуп человек!
Впрочем, многие пьяницы, даже очень многие, искренне уверены, что не больны, что в любой момент по своему желанию могут изменить образ жизни и отказаться от выпивки.
Мой ныне покойный друг, часто и по многу выпивавший, глубокомысленно заметил по этому поводу: «Чтобы изменить образ жизни, нужно изменить образ мысли. Мне сие не дано.» Глубоко.
Говорят, исключения подтверждают правила. Мне было дано изменить образ мысли приблизительно лет 25 тому назад, когда сладкое вино юности постепенно с годами перебродило и прогоркло. За плечами остались многодневные попойки с друзьями, пьяные драки в кабаках, приводы в милицию, ночевки в вытрезвителе и телеги на работу. Светлого будущего впереди не наблюдалось. Особенно по утрам, когда язык шуршит по небу, во рту нассали коты и черные мысли, как мухи говно, атакуют мозг. Опохмелка, как правило, приводила к новому витку запоя. А в то же время рядом жизнерадостные друзья-собутыльники покряхтят с утра для приличия, примут дозу или попьют пивка и вперед, к новым свершениям. И никаких тебе ни мух, ни угрызений. Как керосинили, так и керосинят, и ничего им не делается.
Мой ныне покойный друг, часто и по многу выпивавший, глубокомысленно заметил по этому поводу: «Чтобы изменить образ жизни, нужно изменить образ мысли. Мне сие не дано.» Глубоко.
Говорят, исключения подтверждают правила. Мне было дано изменить образ мысли приблизительно лет 25 тому назад, когда сладкое вино юности постепенно с годами перебродило и прогоркло. За плечами остались многодневные попойки с друзьями, пьяные драки в кабаках, приводы в милицию, ночевки в вытрезвителе и телеги на работу. Светлого будущего впереди не наблюдалось. Особенно по утрам, когда язык шуршит по небу, во рту нассали коты и черные мысли, как мухи говно, атакуют мозг. Опохмелка, как правило, приводила к новому витку запоя. А в то же время рядом жизнерадостные друзья-собутыльники покряхтят с утра для приличия, примут дозу или попьют пивка и вперед, к новым свершениям. И никаких тебе ни мух, ни угрызений. Как керосинили, так и керосинят, и ничего им не делается.
Когда я понял, что не для меня все это, что свой лимит на выпивку я давно исчерпал, я перестал быть агрессивным пьяницей и поменял образ мысли. Я возненавидел водку.
Однако мой мудрый друг оказался прав только наполовину. Или наполовину не прав – кому как нравится. Смена образа мыслей – это, безусловно, необходимое условие для изменения образа жизни, но, увы, недостаточное. Я пробовал ограничивать себя. Хватило на пару раз. Завязывал. Но… Как же много праздников на Руси! А друзей еще больше. А кое с кем не виделся пол года и вдруг – встреча. Конечно, развязывал, отводил душу и снова завязывал. На месяц, на неделю, на несколько дней. Промучавшись этак пару лет, я сам себе поставил диагноз: хронический алкоголизм N-й степени. Логика здесь до примитивности проста: я ненавижу водку, но пью и не могу бросить.
Однако мой мудрый друг оказался прав только наполовину. Или наполовину не прав – кому как нравится. Смена образа мыслей – это, безусловно, необходимое условие для изменения образа жизни, но, увы, недостаточное. Я пробовал ограничивать себя. Хватило на пару раз. Завязывал. Но… Как же много праздников на Руси! А друзей еще больше. А кое с кем не виделся пол года и вдруг – встреча. Конечно, развязывал, отводил душу и снова завязывал. На месяц, на неделю, на несколько дней. Промучавшись этак пару лет, я сам себе поставил диагноз: хронический алкоголизм N-й степени. Логика здесь до примитивности проста: я ненавижу водку, но пью и не могу бросить.
Похмелье переношу тяжело. После каждого праздника жизни, так сказать, недельного карнавала, у меня объявляют забастовку все внутренние органы. Ну не хотят трудиться, хоть ты тресни. Только подрагивают меленько и гаденько. Даже мои теперь уже седые кудри распрямляются, а ногти на руках неправдоподобно отрастают, и почему-то всегда грязные. Но главное – не это. Главное – душа. Она чернеет. И болит. Довлеет чувство вины перед всем человечеством, раскаяние и страх. Вздрагиваю от резких звуков, избегаю без нужды выходить из дома, т. к. кажется, что каждая встреченная мной машина мчит на мою погибель. О материальных потерях и не говорю – это само собой разумеется. Никто так не страдает от запоев, как я, грешник. Так мне кажется. Хотя по жизни приходилось встречать людей, которые категорически оспаривали эту мою доктрину, отдавая пальму первенства исключительно себе.
С завистью смотрю на людей, которые не страдают или почти не страдают от похмелья. Пьет человек всю жизнь, как мой тесть, например, а не унывает, весел, сыплет анекдотами. А главное – всегда готов, как пионер. Правда, это только состояние души. Плоть то, конечно, потихоньку разваливается.
Выпивать я начал в восьмом классе. Мы покупали с приятелем на сэкономленные от школьных завтраков деньги бутылку портвейна 0,5л и за партией в шахматы потихоньку выпивали ее. Через пол часа меня выворачивало наизнанку. Я переживал: «Ну почему Сашке ничего не делается? Я что, хуже других? Слабак что-ли?».
Выпивать я начал в восьмом классе. Мы покупали с приятелем на сэкономленные от школьных завтраков деньги бутылку портвейна 0,5л и за партией в шахматы потихоньку выпивали ее. Через пол часа меня выворачивало наизнанку. Я переживал: «Ну почему Сашке ничего не делается? Я что, хуже других? Слабак что-ли?».
Вскоре я нашел противоядие. После выпитого мы шли бродить по городу, и часа через два хорошего променажа тошнота отступала.
В студенческие годы я уже пил наравне со всеми, и если вдруг в разгар пирушки начинало мутить, я выходил на улицу и давал, давал круги вокруг квартала, пока доза не «приживалась».
Сейчас, вглядываясь в то розовощекое, безусое и страшно-страшно далекое, я понимаю, что матерью всех грехов – гордыней (не желаю быть хуже других, желаю быть лучше), я нарушил природный запрет: взломал шифр и порвал охранную грамоту, изначально дарованную мне Богом. И вот уже тридцать лет я искупаю этот свой грех: мучаюсь сам, мучаю близких мне людей и еще раз мучаюсь, как источник скорби своих близких.
Объективности ради надо заметить, что не все в питие так скверно, даже для меня, грешника. Прежде всего в этом плане вспоминаются не шумные многолюдные застолья с песнями и плясками (хотя и здесь есть своя изюминка). Многолюдные застолья – это праздник тела, карнавал, где все присутствующие в масках. Мне же всегда были отраднее тихие беседы с родственной душой или с двумя-тремя близкими по духу друзьями, когда после двух-трех стаканов каждый понимает каждого, а сердца стучат, как одно большое целое.
Или сам с собой и бутылкой литрового вермута поздним вечером на кухне, когда с каждым глотком из гладкого, богемского стекла, стакана с тяжелым дном осыпается шелуха никчемной суеты прошедшего дня, отодвигается, уходит во мрак скорбь о собственной ненужности, невостребованности в этом лицемерном и пакостном мире, а боль о несбывшемся стихает, уступая место светлым думам о Вечном. Увы! Утром все встает на круги своя.
Или сам с собой и бутылкой литрового вермута поздним вечером на кухне, когда с каждым глотком из гладкого, богемского стекла, стакана с тяжелым дном осыпается шелуха никчемной суеты прошедшего дня, отодвигается, уходит во мрак скорбь о собственной ненужности, невостребованности в этом лицемерном и пакостном мире, а боль о несбывшемся стихает, уступая место светлым думам о Вечном. Увы! Утром все встает на круги своя.
Помню двадцатилетней давности поход на природу с ночевкой. Конец апреля-начало мая в тот год выдались морозными. Рано утром в толстых свитерах, а кто и в телогрейках, мы, отстукивая дробь зубами, выползали из палаток на природу. Кто-то, подхватив ведра, бежал на ключ за водой для чая. Остальные шли в лес собирать по седой от инея траве валежник для костра. Но вскоре при ясной погоде земля оттаивала, а к полудню уже можно было, раздевшись по пояс и играя в футбол или волейбол, принимать солнечные ванны.
В то утро, по-моему это было 30 апреля, мы, три старых приятеля еще по институту, отправились на разведку в ближайшую деревню, что обозначила себя еще вчера, в день приезда, высокой колокольней на пригорке. Колокольня оказалась частью теперь уже довольно унылого, красного кирпича пятиглавого Храма без крестов, с заколоченными досками окнами и дырявыми маковками. Напротив Храма, метрах в двадцати, расположилось одноэтажное строение барачного типа с вывеской над крыльцом «клуб». К клубу вплотную примыкал сарай под названием «сельмаг». Это противостояние былого величия с убогим настоящим было настолько разительно, что мы, отматерив в сердцах большевиков за вандализм и глупость, зашли в сельмаг и купили четыре бутылки водки с прицелом на вечер. Затем, подумав, взяли буханку очень черного (нигде больше не встречал такого) подового хлеба. А потом еще, по совету продавщицы, килограмм кильки. «Берите, ребята, не пожалеете. Жирная, свежая, только сегодня привезли».
В то утро, по-моему это было 30 апреля, мы, три старых приятеля еще по институту, отправились на разведку в ближайшую деревню, что обозначила себя еще вчера, в день приезда, высокой колокольней на пригорке. Колокольня оказалась частью теперь уже довольно унылого, красного кирпича пятиглавого Храма без крестов, с заколоченными досками окнами и дырявыми маковками. Напротив Храма, метрах в двадцати, расположилось одноэтажное строение барачного типа с вывеской над крыльцом «клуб». К клубу вплотную примыкал сарай под названием «сельмаг». Это противостояние былого величия с убогим настоящим было настолько разительно, что мы, отматерив в сердцах большевиков за вандализм и глупость, зашли в сельмаг и купили четыре бутылки водки с прицелом на вечер. Затем, подумав, взяли буханку очень черного (нигде больше не встречал такого) подового хлеба. А потом еще, по совету продавщицы, килограмм кильки. «Берите, ребята, не пожалеете. Жирная, свежая, только сегодня привезли».
Когда мы стали спускаться по узенькой тропке к лагерю, солнце уже поднялось довольно высоко. Мы остановились и сняли свитера. «Мужики, да вы посмотрите, какая красота. А?» Мы с Мишкой посмотрели, куда указывал двумя руками Шурик, т. е. во все стороны, и по достоинству оценили его наблюдательность. А почему, собственно? Ведь не базальтовые Крым или Швейцария открылись взору, а скромная, слегка холмистая русская равнина с бесконечными полями, перелесками, овражками и небрежно брошенной лентой реки у горизонта. Может быть, все дело в охристых мазках мать-и-мачехи, 0разбросанных по всему простору? Или всего лишь в охрипшем спросонья шмеле, копошащемся на одуванчике? Или… да какая суть разница! Но факт, было нечто в этом безбрежье, что заставило изумиться и ахнуть.
«А давайте-ка, мужики, прямо здесь и уговорим одну пол-литру. Место уж больно благодатное.»,- предложил Шурик. Мы радостно согласились. Пока мы оборудовали благодатное место, раскладывали закуску и прочее, Мишка сбегал обратно в магазин и принес три граненых стакана от продавщицы с непременным условием отдачи.
Мы сидели рядком чуть выше тропки на склоне пригорка. Хлеб был мягкий, душистый. Килька – просто великолепна. Водка… А что водка? Водка – она и в Африке водка. Главное – нам всем троим было хорошо. Говорили о разном: что-то вспоминали, чему-то смеялись. За первой бутылкой последовала вторая. Мы скинули рубашки и подставили свои дебелые тела под целомудренные ласки солнцу. «Мужики, ведь мы счастливые люди. Ну есть хоть где-нибудь в Европе такие просторы?»,- вопрошал Шурик. Мы с готовностью соглашались: «Да куда ей, Европе!». «А запахи-то, запахи чуете?»,- теребил нас Мишка. Этой ночью в палатке я простыл, схватил насморк и запахов не чуял, но сразу уверовал, что и запахи здесь отменные.
Уходить не хотелось. Мы легко уговорили третью пол-литру и еще острее прочувствовали непостижимую гармонию между килькой, солнцем, простором, мать-и-мачехой, лентой реки, Храмом на пригорке, хлебом и водкой. Балаболя уж даже не помню о чем, мы просто наслаждались этими минутами душевной близости друг к другу, так невзначай подаренными нам жизнью. После четвертой, последней бутылки, мы с благодарностью вернули стаканы продавщице и с песнями двинулись к лагерю.
Уходить не хотелось. Мы легко уговорили третью пол-литру и еще острее прочувствовали непостижимую гармонию между килькой, солнцем, простором, мать-и-мачехой, лентой реки, Храмом на пригорке, хлебом и водкой. Балаболя уж даже не помню о чем, мы просто наслаждались этими минутами душевной близости друг к другу, так невзначай подаренными нам жизнью. После четвертой, последней бутылки, мы с благодарностью вернули стаканы продавщице и с песнями двинулись к лагерю.
Двадцать лет прошло, я забыл облик женщины, с которой ночевал в палатке, а вид с того пригорка так и стоит перед глазами. Три года тому назад, на похоронах Шурика Мишка наклонился ко мне: «А помнишь, как мы втроем на пригорке..?» А ведь сколько было перепито за 17 лет в разных местах и вдвоем и втроем и порознь. С Шуриком мы никогда не вспоминали этот поход, хоть крепко дружили и общались довольно плотно, но я уверен, что если бы мне было суждено уйти в мир иной раньше него, то на моих похоронах он наклонился бы к Мишке: «А помнишь, как мы втроем на пригорке?..»
Прошу понять меня правильно. Я ни в коем случае не хочу поэтизировать пьянку, но из песни слова не выкинешь – было и такое.
Хочу коснуться весьма прискорбной темы. Вернее, только обозначить ее, ибо вопрос этот запутан, сложен, а корни его спрятаны глубоко. Обозначим эту тему приблизительно так: питейные традиции разных народов.
Будучи еще при советской власти в командировке в Азербайджане, прогуливаясь после работы по вечернему Кировабаду, я лицезрел в многочисленных садиках, двориках и беседочках, увитых виноградом, такую вот трогательную картинку: сидят за столами небритые мужики в тюбетейках, играют в нарды, домино, а на столе – чайник и пиалы, а в чайнике – чай. Заметьте, не бутылка под столом, а чайник на столе. Помню, меня, русского человека, это приятно удивило. В кабаках, правда, тоже сидели, выпивали, но безобразно пьяных азербайджанцев я не видел.
Будучи еще при советской власти в командировке в Азербайджане, прогуливаясь после работы по вечернему Кировабаду, я лицезрел в многочисленных садиках, двориках и беседочках, увитых виноградом, такую вот трогательную картинку: сидят за столами небритые мужики в тюбетейках, играют в нарды, домино, а на столе – чайник и пиалы, а в чайнике – чай. Заметьте, не бутылка под столом, а чайник на столе. Помню, меня, русского человека, это приятно удивило. В кабаках, правда, тоже сидели, выпивали, но безобразно пьяных азербайджанцев я не видел.
В одном серьезном споре об исторических отношениях России и Армении, мой визави, а он упорно называл русского Ивана отчимом. Не отцом, не братом, а именно отчимом. Так и говорил: «Наш отчим, русский Иван, который спас армянский народ от полного истребления…» Ну да Бог ему судья. Так вот, мой темпераментный визави запальчиво махал пальцем перед моим носом:
-Вот это мы у вас не переняли! В Ереване нет ни одного вытрезвителя!
-Вы что же, никогда пьяными не бываете? – усмехнулся я.
-Бываем, но любой армянин считает недостойным показать обществу свою слабость. Друзья вызовут такси и доставят домой отсыпаться, — гордо ответил он.
-Вы что же, никогда пьяными не бываете? – усмехнулся я.
-Бываем, но любой армянин считает недостойным показать обществу свою слабость. Друзья вызовут такси и доставят домой отсыпаться, — гордо ответил он.
О том, что норовим показать с купеческим размахом мы, русские, лучше не писать – стыдно. Особенно омерзительно наблюдать супружескую пару, возвращающуюся вечером из гостей. В метро, например. Он – сильно выпивши или даже в лоскуты. Естественно, куражится. Она – суетится вокруг, одергивает его, пытаясь за рукав удержать в вертикальном положении этакую тушу. А что делать? Притерлась годами. Хоть говно — да свое.
Так, может быть, то, что мы, русские, за последние десятилетия так обессилили, что не в состоянии постоять за себя не только где-нибудь у чурок, которых мы в свое время ссать стоя научили, но и на своих исконных территориях, да в Москве, хотя бы, которая уже изрядно почернела от ползучего нашествия «иных племен татаров и монголов». Так вот, может быть наше бессилие или наше безразличие к себе, как к нации,обусловлено нашим тотальным пьянством? Конечно же – не поэтому: большой корабль одной торпедой не потопишь. Но убежден: и поэтому тоже.
Иногда мои домашние, устав браниться и скандалить по поводу моей пьянки (алкаш вонючий – это еще не самое сильное выражение) в минуты просветления наивно спрашивают меня, мол, как же ты, каждый раз умирающий от очередного запоя, все понимающий, анализирующий, трезво смотрящий в суть своих пьяных проблем, в тысяча первый раз наступаешь на одни и те же грабли? По трезвому не замеченный в крупной лжи, вдруг в одночасье начинаешь дерзко врать, изворачиваться (сотрудника в отпуск провожали, день рождения сослуживца, важная деловая встреча – никак не мог отказаться), устраиваешь тайники по всей квартире из недопитых поллитров и четвертинок, а потом вдруг находим тебя посреди ночи, валяющимся на полу кухни в обоссанных портках? А потом ты на несколько дней теряешь человеческий облик. А потом еще неделю отходишь, и мы не знаем, на этот свет или на тот – такое, вот, твое состояние?
Если за 23 года совместной жизни на все мои попытки объясниться я слышал только два варианта возражений: это не болезнь, а распущенность, и, если болен – кодируйся на пять лет (к последнему проекту мы еще вернемся), то и напрягаться более нет смысла – сытый голодного не разумеет. Попробую на бумаге объяснить хотя бы для себя и для возможного читателя механизм оскотинивания человека. Так сказать – взгляд изнутри.
Хочу оговориться. Здоровы все одинаково. Больны – каждый по своему. Возможно, кто то из пьющих посмеется над моей писаниной, кто то презрительно плюнет – слабак, мол, и паникер, но, думаю, какие-то симптомы, черты у нашего запойного брата общие.
Все дело в первой рюмке. Я могу долго не выпивать, особенно если последний запой был слишком тяжел: неделю, три ( вам смешно?), месяц, два… Потом возникает она, родимая. Обычно сразу в штопор я не вхожу. Первый раз могу выпить без всяких негативных последствий, даже крепко выпить. Здесь главное – не опохмелиться с утра. Через несколько дней могу выпить еще. И опять все нормально. Потом еще. Могу даже взять бутылку водки или вермута на вечер. Постепенно забывается, отходит в небытие последний жутко депрессивный отходняк, а внутренний голос начинает оптимистично нашептывать: «Ну вот, старик, все нормально, а ты боялся. Ведь можешь же, как все. Только держи себя в руках, и все будет прекрасно.» Вот тут-то я и получаю неожиданный удар под дых. В очередной пьяной компании выпиваю лишнего, куда-то еду со всеми, добавляю, потом еще… Утро встречаю в разобранном состоянии. И если присутствует в похмельной башке какая-никакая мыслишка, то только одна – как-то починить организм. И если не хватает здорового духа взять себя в руки (а откуда он возьмется в больном то теле?), я принимаю допинг. Через час – еще. К вечеру – на рогах. Утром – помираю. Процесс пошел. Останавливаюсь дней через 5 –7 (здесь я рассматриваю наиболее тяжелый случай. В облегченном варианте запой может продолжаться дня три, так сказать минизапой), когда организм уже не воспринимает отраву. Два дня, полудохлый, под истеричные проклятия жены и презрительные взгляды дочерей валяюсь в койке или, по возможности, копошусь чего-нибудь по дому. Потом потихоньку восстанавливаюсь, начинаю принимать пищу, но одна назойливая мысль не дает покоя: следующий запой я не переживу. Однако, проходит время, случается следующий, за ним еще и так годами, а я, на удивление, жив, и стучу вот сейчас по деревянному столу, на котором пишу эти строки.
Важное дополнение. Если кому-то кажется, что в эти 5 – 7 дней я справляю свое удовольствие, послав все к чертовой матери, то он глубоко заблуждается. Свое удовольствие я справляю только в первый день, когда перебираю, куда-то еду со всеми, добавляю неоднократно и до конца дня погружаюсь в выдуманный, почти идеальный, мир, отличный от этого фальшивого. Все последующее – это только никчемные попытки хоть на час, хоть на пол часа отогнать подальше рой черных мух-мыслей и заглянуть в недалекое будущее если не с оптимизмом, то хотя бы с надеждой. Умом понимаю, что алкогольная депрессия – это только химия и ничего больше, но от этого почему-то не легче.
Важное дополнение. Если кому-то кажется, что в эти 5 – 7 дней я справляю свое удовольствие, послав все к чертовой матери, то он глубоко заблуждается. Свое удовольствие я справляю только в первый день, когда перебираю, куда-то еду со всеми, добавляю неоднократно и до конца дня погружаюсь в выдуманный, почти идеальный, мир, отличный от этого фальшивого. Все последующее – это только никчемные попытки хоть на час, хоть на пол часа отогнать подальше рой черных мух-мыслей и заглянуть в недалекое будущее если не с оптимизмом, то хотя бы с надеждой. Умом понимаю, что алкогольная депрессия – это только химия и ничего больше, но от этого почему-то не легче.
Исходя из вышеизложенного… Кажется так принято писать в канцелярских и милицейских бумагах. И хотя этот мой скромный труд отнюдь не милицейский протокол, а лишь робкая попытка поймать за хвост того беса, который вот уже почти тридцать лет не дает мне жить по Божьим и нормальным человеческим законам, я вынужденно использую этот канцелярский трафарет, как наиболее подходящий для дальнейшего изложения. Итак, исходя из вышеизложенного, возникает два вопроса:
1. Зачем я выпиваю эту первую рюмку? Уж такое непреодолимое желание?
2. Зачем, изучив за 30 лет последствия, напиваться до чертиков? Что, уж прямо таки нет никакой возможности во-время остановиться, хотя бы вспомнив свои похмельные страдания?
2. Зачем, изучив за 30 лет последствия, напиваться до чертиков? Что, уж прямо таки нет никакой возможности во-время остановиться, хотя бы вспомнив свои похмельные страдания?
Начну с первого вопроса, как наиболее сложного. Непреодолимой физической потребности выпить первую стопку у меня никогда не было. По крайней мере так мне всегда казалось и кажется. Но ведь этой первой стопкой могла оказаться бутылка заиндевелого, пробирающего ломотой руку до самого плеча, пива в знойный день где-нибудь на пляже, на отдыхе. Или на каком-нибудь торжестве вдруг становится противно выдумывать себе болезни, мол, антибиотики принимаю, спиртное нельзя никак. И страшно захочется хоть на вечер стать, как все, выпить с мужиками, поумничать о политике или просто поболтать ни о чем. Или четвертинка водки (а то и поллитра), купленная по дороге с работы домой, потому что «кругом сплошное говно, и устал я, как черт, и вообще, пошли они все…» Вариантов уйма. Но в любом случае перед началом процесса пресловутый внутренний голос нашептывает мне приблизительно следующее: «Не бойся, старик, ты же не из тех, кто заводится с одной рюмки. Выпьешь немного, а потом снова завяжешь на какое-то время, все будет хорошо».
То, в чем оптимистично убеждал меня внутренний голос обычно (но не всегда) сбывалось в первой своей части, но никогда — во второй. Единожды вкусив, я уже не завязывал, а, как бы возвратясь домой из далекой и нудной ссылки, с облегчением сбрасывал с себя груз воздержания и, хоть и с осторожностью на первых порах, вливался в ту жизнь, с которой свыкся за много лет. Суетную жизнь с пивком, а то и стаканчиком после работы, днями рождений, проводами в отпуск и встречами гостей. Завязывал же «на некоторое время», как мне советовал «внутренний голос», только после запоя, который наступал вскоре, беспощадно и неотвратимо, как зима.
Возвращаясь к вопросу о первой стопке, спрашиваю себя в который уж раз: может быть эта бутылка холодного пива, или четвертинка водки под плохое настроение, или банкет, где невыносимо быть «белой вороной» появляются, материализуются, так сказать, только к тому времени, когда этого страстно потребуют мои пораженные алкоголизмом почки, печень, селезенка или пропитые мозги, в конце концов? А я, глупенький, не осознаю этого и долдоню, как придурок, что у меня-де нет физической потребности. Думаю, с этой версией согласится любой врач-нарколог.
Но есть другая версия – лженаучная. Неоднократно упомянутый здесь внутренний голос, что изобретательно и изощренно ищет и находит тысячи причин, по которым я просто обязан выпить первую, а за ней и последующие стопки – есть тот самый бес, которого я тщетно, вот уже много лет, пытаюсь поймать за хвост. Уточняю. Не бес – аллегория, а настоящий бес, враг рода человеческого, подручный князя мира сего с копытами и хвостом, а возможно и с рогами. Для верующих воцерковленных людей эта версия вопросов не вызывает, здесь все понятно. Для тех же, кто сейчас крутит пальцем у виска, мол, у автора крыша поехала на почве алкоголизма, поясняю. Недуг сей имеет не физиологическую, а духовную основу. Поэтому современные медикаментозные средства типа «торпеды» системы выпьешь – помрешь или пробки в мозгу по Довженко борются со следствием, но не с причиной. Причину же возможно устранить только обращением к духовному, т. е. к Богу.
«Враг сей изгоняется молитвой и постом и ничем более». Так сказано в Евангелии.
Здесь не грех вспомнить моего давнишнего знакомого, «торпедированного» аж на пять лет. Бедняга каждый день делал зарубки на балконе, все пять лет, а когда срок вышел, так загулял на радостях, как никогда в жизни не гулял до «торпедирования». Еле откачали. Другой, помню, весь срок собирал этикетки от вин и водок. Впрочем, ничего страшного, этакое маленькое чудачество. А вот факт посуровей. Один добрый малый, мой коллега, закодировался по настоянию своего начальства. Освоившись же в трезвой жизни стал такой сволочью, что пробы ставить негде. Откуда что взялось! Опираясь на последнюю, «лженаучную» версию алкоголизма, задаюсь вопросом: может быть всевидящий Господь Бог попускает в человека беса пьянства, дабы оградить его от неких более тяжких грехов?
Здесь не грех вспомнить моего давнишнего знакомого, «торпедированного» аж на пять лет. Бедняга каждый день делал зарубки на балконе, все пять лет, а когда срок вышел, так загулял на радостях, как никогда в жизни не гулял до «торпедирования». Еле откачали. Другой, помню, весь срок собирал этикетки от вин и водок. Впрочем, ничего страшного, этакое маленькое чудачество. А вот факт посуровей. Один добрый малый, мой коллега, закодировался по настоянию своего начальства. Освоившись же в трезвой жизни стал такой сволочью, что пробы ставить негде. Откуда что взялось! Опираясь на последнюю, «лженаучную» версию алкоголизма, задаюсь вопросом: может быть всевидящий Господь Бог попускает в человека беса пьянства, дабы оградить его от неких более тяжких грехов?
Говорят, чтобы познать до конца, что представляет из себя данный конкретный человек, надо дать ему власть и деньги. А я добавлю: и закодировать от пьянства. Впрочем, даже только медикаментозное воздействие неоспоримо благотворно для плоти алкоголика. Вот пил человек безобразно, а потом закодировался, скажем, года на три, и прекратились неприятности на работе. Приоделся, приосанился, руки не трясутся и со здоровьем, наверное, стало получше. А вот что с душой происходит, со стороны порой и не видно. Думаю, что все эти кодирования, торпедирования, купирования и пр. сродни лечению тяжелой болезни, скажем, язвы желудка, обезболиванием. Анальгином, например.
Теперь перейдем ко второму вопросу: почему не желая и страшась этого – я напиваюсь и вхожу в недельный штопор с жуткими последствиями «передозировки»?
Чтобы положить начало, т. е. взять удачный старт на результативный запой, необходимо как минимум два условия: отсутствие сдерживающих обстоятельств (жены, например) и большое количество спиртного на столе. Обычно перед пьянкой я даю себе установку: не более 300 г. Это вполне безобидная доза, чтобы не тянуло с утра поправить здоровье. В этот момент я еще представляю из себя ту цельную личность, которая, например, пишет эти строки. Другими словами, я – это я. Но вот за разговорами и тостами выпито, скажем, 150 г, и частичка моего истинного Я исчезает. Наверное, растворяется в этих 150 г. А на место этой частички внедряется некая посторонняя сущность с совершенно иным отношением к происходящему. Но я еще «в большинстве» и вполне контролирую ситуацию. Чем больше выпито – тем меньше остается моего истинного Я и тем больше места в моей плоти (душе? мозгу?) занимает эта посторонняя сущность.
Но вот выпиты установленные 300 г, и то чужеродное, укоренившееся и окрепшее во мне, но еще не довлеющее окончательно над моей ущербной и уже ослабленной личностью, легко выклянчивает пару сверхплановых стопок: «Ну что тебе будет! Ты же здоровый мужик, выпьешь и поедешь домой.» Принимая решение еще немного посидеть, я в тот момент убеждаю себя, я почти уверен, что вот выпью чуть-чуть – и все. Но выпив, я еще больше внедряю в себя это нечто, коварное и злое, и неожиданно оказываюсь «в меньшинстве». Теперь перевес сил не на моей стороне. Я никуда не еду. Если водки много, то через некоторое время открывается так называемая стадия воронки. Т. е. я уже представляю из себя воронку, куда могу вливать спиртное неограниченно. Какие мысли при этом? Приблизительно следующие: «А пошли они все… Я расслабляюсь». Но я, переживший за много лет тысячу алкогольных отравлений, не могу так думать. Эти мысли не могут принадлежать мне настоящему! Так кому же они принадлежат? Вот мы и пришли к ответу: ему, врагу рода человеческого, подручному князя мира сего с копытами и хвостом, а возможно и с рогами, что вытеснил «меня из меня» и теперь будет неделю измываться и мучить. За эту неделю я, возможно, сделаю десяток звонков, возможно, побываю в гостях у того, того и даже той… Возможно где-то буду говорить умные вещи, где-то рыдать пьяный, где-то прикидываться деловым, а где-то не в меру веселиться. Но это все будет фон, скрывающий главное. А главное – это выпить. Выпить там, там и там. Но это – я подчеркиваю – буду уже не я.
В белой горячке люди видят чертей и пытаются их поймать. Почему же именно чертей? Думаю, в этом состоянии они видят реальных чертей, не кажущихся.
Смертному бороться с нечистью бессмысленно. Слишком разные весовые категории. Нечисть всегда улучит момент припечатать лопатками (а лучше мордой) к асфальту. Этим, наверное, и объясняется неизлечимость алкоголизма. Вспоминается такой эпизод. Я не пил уже около двух месяцев. И вот где-то на ровном месте приходит мысль, что меня алкоголика за два месяца ни разу не потянуло на спиртное. Наоборот, появилось устойчивое отвращение к водке. Даже странно как-то. Что надо, мол, продолжать в том же духе, т. е. не выпивать и посмотреть, что будет дальше. Через три дня я уже был на рогах, и даже не заметил, как и почему это произошло.
Итак, чтобы иметь желание и надежду одолеть беса пьянства в себе – надо твердо уяснить, что самостоятельно, без помощи высших сил, ничего не получится, и обратиться к Богу. Пост, молитвы, отчитка в Сергиевом Посаде, например, у отца Германа, регулярные исповедь и причастие. Но для этого нужна сильная вера, ибо сказано, что по вере будет отпущено нам. И я, грешник, молю Господа, чтобы дал мне такую веру.
Пошел третий месяц, как я не пью, но иллюзий на этот счет не питаю. Я знаю, что рано или поздно случится то, что всегда случается. Когда утром я выхожу из дома на работу и вижу кучкующиеся группки алкоголиков у окрестных магазинов, я молюсь про себя: «Господи! Молитвами Пречистой Матери Твоей избавь меня от лукавого, не дай споткнуться, продли мои трезвые дни».
Владимир Морозов
Источник — https://www.proza.ru/2002/11/02-72